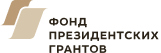Три истории волонтера, которые прошли путь до руководителя фонда
Благотворительная индустрия — это мощное профессиональное сообщество, и чем заметнее ваше присутствие в нём, тем больше пользы вы сможете из этого извлечь как для личного бренда, так и для вашей организации. Любой новый контакт обладает потенциалом для сотрудничества и нового витка в карьере.
На примере выпускников Московской школы профессиональной филантропии фонда «Друзья», которое уже насчитывает более 1000 экспертов из бизнеса и НКО, расскажем, какие возможности открывает нетворкинг.
В любую сферу люди попадают не случайно — будь то образование, бизнес или благотворительность. И каждый член сообщества обладает определенными ресурсами, интеллектуальным и социальным капиталом. Выстраивая личную коммуникацию с коллегами по сектору, поддерживая контакт и интересуясь их проектами, вы можете получить доступ к их опыту и экспертизе, научиться на их ошибках, получить ценные рекомендации и использовать их в своей работе.
Из Уфы в Гватемалу
Виктория Валикова – генеральный директор фонда Health & Help, но так было не всегда. Изначально Вика – врач-инфекционист. До начала своего пути в благотворительности она работала в приемном покое в Уфе. Работа нравилась.
- Мне вообще везде, где бы я ни оказалась, нравится, – смеётся она.
Но рутина со временем утомила, и Вика отправилась в Бельгию, там отучилась на специалиста по тропической медицине и организации здравоохранения в странах с ограниченными ресурсами. Дальше поехала врачом-волонтером сначала в Гватемалу, следом – на остров в Гондурас, а потом на Гаити. Врачебные задачи изменились вместе с географией: к привычным кори, краснухе и гепатитам добавилась холера и другие диковинные болезни.
- Я увидела, что люди умирают от поноса и пневмонии. Сейчас XXI век, а у нас дети погибают от голода. Так быть не должно, и я делаю так, чтобы этого было как можно меньше, - рассказывает она.
Опыт волонтёрской работы в разных организациях подсветил для Вики те проблемы, которые она смогла обозначить и решить в собственной организации.

- Когда я работала в бельгийской клинике в Гватемале, там вечно не хватало лекарств. Мы буквально каждый день отправляли людей умирать, потому что не было нужной таблетки. В Гондурасе, в американской клинике, было очень много волонтеров, которые практически не говорили на испанском. Многие не понимали пациентов, приходилось звать переводчика. Это очень осложняло процесс, не говоря об этических проблемах: представьте переводчика на гинекологическом осмотре или в родах. Когда я попала в католическую больницу на Гаити, мне не нравилось, что если пациент не может заплатить за и так дешевый прием, сделать минимальное пожертвование для монастыря, то монахини выгоняли его из больницы. Я собрала все это и многое другое в «коробочку идей» и в нашей организации попыталась учесть этот негативный опыт. Конечно, всплыло еще много нюансов, но мой волонтерский опыт точно помог сформировать базовое видение.
Вика убеждена, что в некоммерческом секторе, как и в бизнесе, может найти себе место любой человек: был бы азарт, желание, интерес, остальное сделает обучение и онбординг. В пример приводит своего коллегу, бывшего руководителя крупного бизнеса, продающего мебель для отелей, дальше – волонтера Health & Help, который со временем стал управлять проектами по ремонту крыш в больницах организации и наладкой систем очистки воды для деревень, где работает Вика и её команда.
Объявление об очередном наборе в МШПФ попалось на глаза Вике случайно.
- Я зашла и подумала: «Хм, дорого, нет таких денег, но было бы круто попасть в это место».
Через полгода Вика узнала про гранты на обучение и поступила.
- Это огромная честь и радость, МШПФ – лучшее, что со мной вообще могло случиться. Никого не знала, но потом как узнала и продолжаю узнавать до сих пор. Очень вдохновляет сообщество. Выездные модули, песни с Манижей, посиделки после занятий. Еще запомнила, как мы с Сережей Иевковым – основателем Благотворительной больницы – как-то жили у моей подписчицы в квартире, а мой младенец Серафим свалился с ларингитом. Сережа – детский реаниматолог – скорую вызывал и заботился о нем. Я ничего специального не ожидала от своей учебы в МШПФ, а опыт оказался фееричным. Было интересно, весело, полезно, ну и приятный бонус в виде комьюнити – это прямо в сердечко.
Главным открытием в МШПФ для Вики оказалось то, насколько профессионально все может быть выстроено. Система собственной работы, которую налаживала Вика, раньше казалась безупречной. Теперь стали видны те аспекты, которые можно доработать. К примеру, GR-направление, о котором раньше не было мыслей, теперь стало «путеводной стратегической звездой», как говорит Вика.
Много внимания уделили обсуждениям фандрайзинга и коммуникаций – сегодня Вика уверена, что управление в НКО вполне может быть самостоятельной университетской программой. Отдельной дисциплиной в ней должен стать баланс между личным и рабочим.
- Мы пытаемся уходить от волонтерства и нанимать сотрудников. Связано это с тем, что волонтеры работают меньше часов, чем сотрудники на зарплате, а требуют столько же менеджерского внимания и любви, сколько штатные сотрудники. В итоге либо выгорает менеджер, которому вместо заботы об одном сотруднике приходится тратить время на нескольких волонтеров, либо сам волонтер, которому не хватает внимания. Мы поняли, что для нашей организации оптимальным вариантом выглядит сокращение числа волонтеров и создание такой опции только для работы в клиниках: там мы принимаем волонтеров на короткий срок и они платят ощутимые волонтерские взносы. Теперь это больше элемент фандрайзинга и пиара.
Сегодня сама Вика практически полностью отошла от операционных управленческих задач. Она продолжает настраивать процессы, опирается на новые знания и поддерживает связь с другими выпускниками. Школу вспоминает с теплом.
Отыскать свою идентичность и стать амбассадором ненасилия
Сегодня Анастасия Бабичева видит себя специалистом с множественной профессиональной идентичностью в секторе НКО. Путь к такому самоопределению занял без малого полтора десятка лет. Точкой входа в благотворительность стал вопрос, внезапно родившийся из бытового диалога:
«А как же дети, у которых нет мамы? Как же дети, у которых нет вовлеченных, счастливых, обожающих родителей?».
Знакомство с темой сиротства стало неожиданным, но захватило сразу. Сначала удалось вовлечься в жизнь самарского дома ребёнка «Малютка», затем постепенно включиться и в более широкие сообщества. В 2010-е отсутствие устойчивого института волонтерства ощущалось довольно сильно. Тем не менее сформировавшийся рядом с Анастасией костяк добровольцев начал работать с несколькими учреждениями. Масштабирование потребовало усилий ― чтения специализированной литературы, изучения лучших практик.
- Тогда не была так развита инфраструктура профессионализации некоммерческого сектора, но в любом случае мы что-то читали, мы ездили на конференции, работали над собственными методиками, старались партнериться с московскими экспертами и организациями. Это была очень интенсивная, полноценная, мощная работа, которая достаточно сильно повлияла на социальный профиль нашего региона.
В 2011 году Анастасия стала учредительницей полностью волонтерской общественной организации, это было начало полноценной профессиональной работы в НКО, хотя до 2019 года она продолжала работать исключительно на волонтерских началах. В этот же период получилось поехать в Америку на стажировку по гранту. Анастасия как первопроходец уже занималась подготовкой волонтеров постоянно, но задумала усилить программу:

- Мы очень быстро поняли, что если не готовить волонтеров, то будем просто наступать на одни и те же грабли, набивать одни и те же шишки. Это просто вредно, опасно и для волонтеров, и для тех, кому мы помогаем, и для сотрудничества с учреждениями.
Прежняя Анастасия из поездки не вернулась – поднялась планка, выросли требования к себе, к качеству своей работы, партнерским отношениям. В жизни начался процесс, который сама она называет «раскопками истинной мотивации». Он совпал с серьезными личными изменениями и подтолкнул к подготовке заявки на следующий международный грант, который покрыл расходы на стажировку, посвященную уже проблеме насилия.
Знакомство с МШПФ стало одним из шагов на пути к совершенствованию мира, а также способом остаться «на плаву» ― не отставать от стремительно меняющегося мира, не устаревать как специалист и личность, создавать и поддерживать контакты. А ещё учёба оказалась надёжным средством от самоуправства:

- Я долго была наивной нкошницей: «Что деньги? Это тщета. Главное, чтобы людям было хорошо». В этом смысле МШПФ очень сильно меня подсобрала, так же как первое соприкосновение с международным опытом. Школа филантропии оказалась значимым стейкхолдером моего профессионального роста. Того, чего мне, может быть, не хватало до 2022 года, сейчас, кажется, в достатке. Появился баланс.
Долгое время Анастасия совмещала волонтёрство с основной работой и фрилансом, но, когда коммерция совсем потеряла смысл, пришлось уйти. Кроме привычных, начали появляться новые, иногда довольно объёмные задачи. Довелось попробовать себя в роли запускающего директора фондов, созданного под запрос учредителей. А относительно недавно ― сделать разработку тематических образовательных программ и проведение тренингов для организаций своим основным видом деятельности.
История той, кто научилась все делать сама
В 90-е годы в Уфе юная Айгуль Гареева наблюдала, как её мама развозит гуманитарную помощь в сиротские приюты. Вспоминает, что по-другому быть не могло: в семье было принято помогать. Сегодня Айгуль – президент одного из крупнейших фондов в Башкирии, и она убеждена, что нет людей, которые хотя бы раз в жизни не были бы волонтёрами.

- По профессии я учитель; неподалеку от школы, где я работала, был детский дом. Когда я смотрела, как много государство тратит на этих детей и какой результат у этих трат, становилось понятно, что мы, взрослые, что-то делаем явно не так.
В историях, которыми делится Айгуль, читается готовность разбираться в проблемах с нуля и брать на себя ответственность за изменения. Работая в школе, она стала налаживать контакт с детьми из детского дома, чтобы сформировать «пространство успеха». И тоже через волонтёрство.
- Было ощущение, что детям не хватает нормального взрослого общения. Есть воспитатели, директора, много кого, с кем невозможно поговорить. Я стала просто приходить поболтать: пекла пиццу и пироги. Дальше стала придумывать для подростков всякие дела: бабушке снег почистить, сложить дрова — в селе всегда есть, чем заняться. Травмированный детским домом ребёнок привык слышать: у тебя ничего не получилось, от тебя отказались, ты ненужный. И вот появляется пространство, где у них получается: сперва дрова сложить, потом отношения с кем-то наладить.
К началу 2010-х годов вокруг идеи помощи детям выросла организация «Мархамат», и Айгуль возглавила её. Кроме работы с сиротами, здесь стали поддерживать детей с особенностями развития: помогали учиться, развиваться, знакомиться с миром. К самой идее помощи Айгуль по-прежнему относится как к чему-то естественному и безусловному.

- Когда ко мне приходят люди, устраиваются, я спрашиваю: “Был ли у вас опыт работы в НКО?” Многие отвечают: “Нет”, – а я говорю, что не бывает такого. Каждый человек кому-то помогает: покупает пряники для каких-то детей, берёт на себя чьи-то хлопоты. Всегда находится история, где каждый был волонтером. Моя позиция, что это базово у нас (у россиян) зашито. Мы себя лучше чувствуем, когда можем помочь. Где-то это спасательство может быть излишним, но с этим можно работать.
Сегодня, пятнадцать лет с момента основания, в фонде «Мархамат» работает порядка пятидесяти сотрудников. Дело каждого из них Айгуль знает досконально.
- Я считаю, что руководитель должен уметь делать всё сам. Может быть, это неправильная позиция, но я в фонде все участки знаю на 100%. Всё что касается сайта, настроек, прикруток, SMM, PR, GR, бухгалтерия — не важно. Я хорошо представляю, как нужно сделать. Несмотря на то, что со многими из студентов и преподавателей МШПФ я уже была знакома, нас там очень качественно передружили.
Эта позиция сформировала с юности: в 13 лет Айгуль присматривала за пожилой умирающей женщиной по соседству. Сама могла следить за гигиеной и поддерживать разговоры, в благодарность за свою помощь получала книги, а ещё — опыт, на который опирается и сейчас: опыт справляться с новыми вызовами. В МШПФ Айгуль приехала с грудным младенцем. Позже стала брать с собой в Москву родных, чтобы те могли присмотреть за ребёнком: мужа, старших дочерей, маму, свекровь — всех по очереди. Координируя волонтёров из собственной семьи, Айгуль продолжала учиться: тестировалась по системе PCM, осваивала инструменты, которые могли бы помочь в работе собственного фонда, выстраивала отношения с коллегами из других организаций.
В Школу Айгуль пришла, успев поработать в депутатской должности: в процессе этой работы по изменению системы изнутри прошла сложный период пандемии, а еще почувствовала острую нехватку общения с людьми из некоммерческого сектора, с теми, кому содержание важнее формы. Желание побыть рядом с единомышленниками и стало отправной точкой для учёбы в МШПФ.
- Сейчас я амбассадор Школы, везде про это говорю. Учёба очень меня изменила, вернула в ресурсное состояние. И всё же это не универсальное место: это точный и очень дорогой инструмент, который будет полезен только тому, кто четко формулирует собственный запрос.
Перебирая инструменты и знания, которые удалось освоить на учебе и привнести в свою работу, Айгуль особенно выделяет тестирование по Хогану и Анализ моделей процесса коммуникации (PCM). Тренера по PCM Айгуль спустя время привезла в Уфу, чтобы провести тренинг для лидеров башкирских НКО. Кроме аналитических инструментов, Айгуль вспоминает лекции по фандрайзингу и решению конфликтных ситуаций: все добытые там знания она теперь применяет на практике.